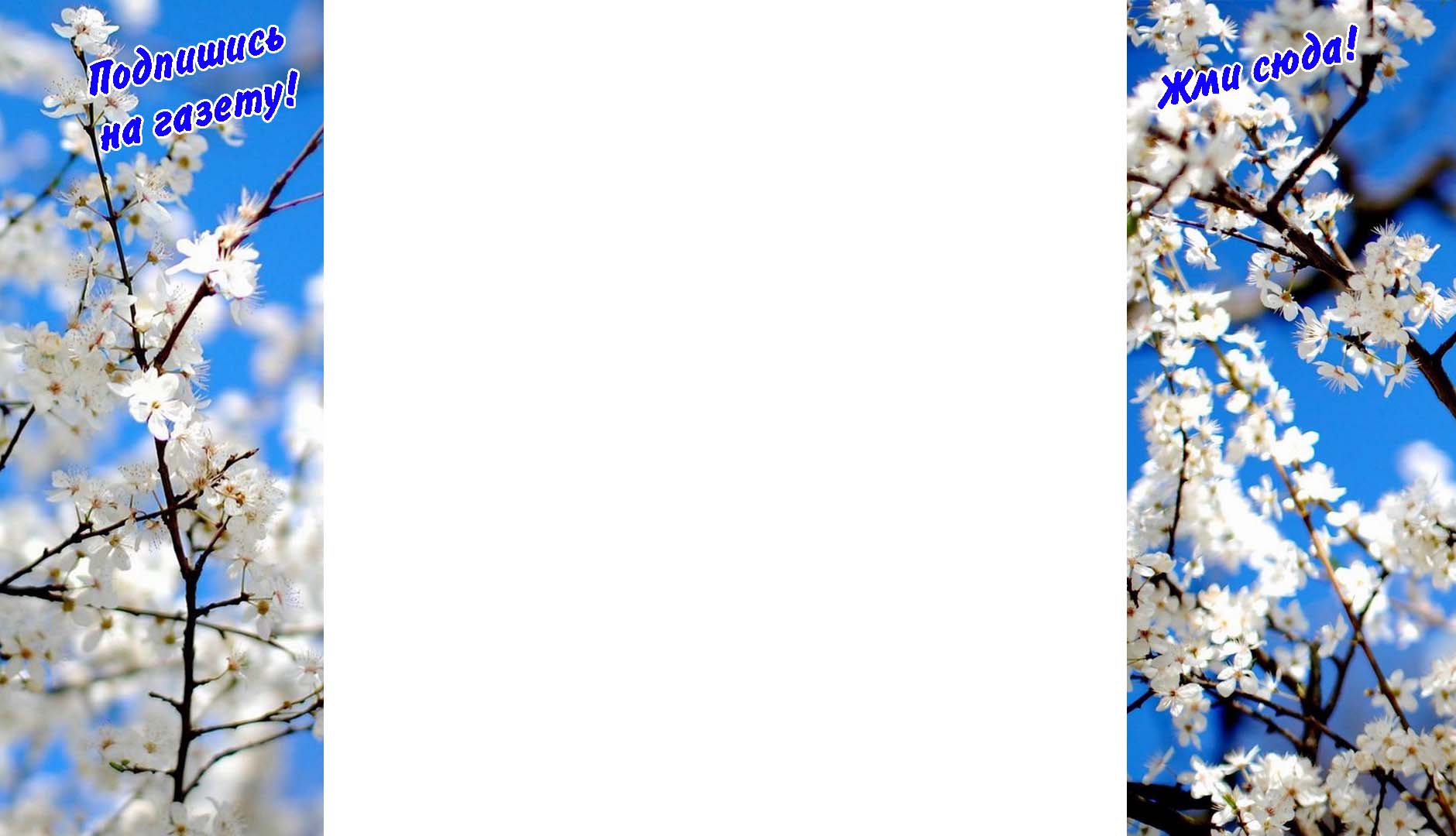Посвящается Тане Сафоновой
Засыпанная жухлой листвой дорожка-биссектриса превращалась в балетную сцену, когда по ней стремительно летела она. Пожалуй, привлекательной эту девушку находили все, только каждый по-своему: кому-то она виделась изящной, умеющей на гроши одеваться со вкусом девицей; кто-то, скрывая желчную зависть, называл ее «селедкой»; но были и те, у которых не только глаза видели, но и сердце. Они удивлялись ее неземному, по-иночески светлому облику, что выдергивал ее из серой толпы.
Черные лодочки летели, едва касаясь дорожки, глаза, огромные озера, всегда смотрели вверх, мимо всего и всех…
…Тогда, в последний ее день, в кармашке черного, элегантного пальто нашли талончик к психиатру. Тот ее полет был похож на падение мотылька в огонь. Милиционер, помогавший в морге ее раздевать, говорил потом, что уж очень странное впечатление произвела на него эта девушка: «Как будто специально выряжалась на смерть: все новое, чистое…»
Но я-то знала другое: «Нет! Идеалистка во всем, она одевалась так каждый день…» Это заставило меня задуматься над одной очень грустной темой: а ведь быть идеальной нужно всегда – человеку трудно угадать внезапность конца!
Но я не хочу вспоминать о мертвой Танечке. Она навсегда для меня осталась живой.
Ах, стройнее девочки не было на филфаке! А музыка! Как она играла на аккордеоне… Студенческая комса млела от изгибов ее стройной спинки и танцев долгих красивых пальцев, бегающих по клавиатуре.
«Знать, что ты совершенство, знать, что ты идеал…» - эта смешная песенка из детского фильма стала лейтмотивом ее жизни.
Как удар грома, на факультете прозвучало: открывается спецкурс старофранцузского! Успешно закончившие спецкурс студенты отправятся в Париж! Ах, Франция! Вот где ее действительно могли оценить! Она яростно вгрызлась в спецкурс. Увидеть Эйфелеву башню, побывать на Монмартре, посидеть в кафешках, где Хэмингуэй писал чудные, любимые ею строчки!
Она читала о Фернане Леже и Сальвадоре Дали, она вся была уже там… Девочка. Открой ладонь и рассмотри ее линии. «Не видать тебе Франции, а Франция не увидит тебя», - сказала Тане обыкновенная «свинка» грубым языком медицины: «паротит».
Таня с ужасом смотрела на себя в зеркало, а в нем отражались предательские отвисшие свиные щеки и опухшая шея. И однажды так закричала, что остановить этот крик стало возможно только с помощью сильно действующих успокаивающих препаратов…
Она бродила по палате, вяло перебирая клавиши аккордеона. Лилась тихая, грустная музыка, но не тридцатипятилетняя Ксюша с пальцев во рту, ни тем более бабка, которая, заметив в линолеуме дырочку, зачем-то старалась изо всех сил расковырять ее пошире. Да и другие обитатели палаты не восхищались ее жалобными «ми-ми-фа…»
Врачи называли ее «девушка с аккордеоном». Они жалели ее, аккуратно и добротно лечили, потому что знали – она излечима. Но именно тогда Таня почему-то стала смотреть сквозь все и вся, ничего не видя…
Осенний ветерок парижских окраин овевал ее бледные щеки, а свинцовая Сена манила к себе. Но все это видела только Таня.
А вокруг были галдящие свое люди-шлак и постельное белье, к которому она боялась прикасаться. Она давала себе полный отчет, что в куче шлака лежит и она, а Париж навсегда потерян.
Одноклассник-лейтенант, грезивший о ней с первого класса и красневший от одного взмаха ее ресниц, уговаривал всю осень следующего года уехать с ним. Он любит. Будет любить до конца жизни. Таня гордилась… совсем чуть-чуть: видный, статный, но… Это – не любовь!
У вежливого отказа были свои причины. Безумное, волшебное лето... Сначала, бродя у моря, лежа рядом с надоевшей подругой, она скучала. Но, как-то раз, выходя из воды, задела своими сияющими озерами-«блюдцами» вишневые агаты… И больше не существовало ни моря, ни солнца. Агатовые глаза – тонкая линия на ладошке Танечки… Эти глаза сыграли роль тяжеленной гири на чаше весов судьбы бывшей «девушки с аккордеоном», и старшей лейтенант с горечью в сердце уехал один на край света – на остров Сахалин.
«- Ты умеешь играть в четыре руки на рояле? Я знаю, умеешь!
- Да. Но откуда ты знаешь?
- Ты сама музыка…»
Более красивого признания в любви ей не делал никто. В холле гостиницы, где жил Грант, стоял старенький инструмент, дорогой, видимо, хорошо и любовно настроенный кем-то. Они сыграли Брамса, затем – Моцарта. Они уже не смогли расстаться. Так и поднялись, держась за руки, по лестнице, неотрывно глядя друг другу в глаза, так что администраторша от этого видения онемела и забыла, зачарованная чужой любовью, спросить документы у незваной гостьи.
Да, она была сама музыка, но и он был музыкой, то тихо шелестевший ей дорогие слова, - россыпь драгоценных камней царя Соломона для обожженной солнцем Суламифи, то - посапывавший на ее хрупком плече.
Армянская кровь текла в смуглом, красивом мужчине, а Таня светилась, как огонек свечи у образов. Пара приковывала к себе внимание всего курортного городка.
Отдыхающие держали пари: как долго они будут держать друг друга за руки? Это красивое чувство стало вечностью – разве возможно дождаться конца Вечности? «Он живет только во мне, и умрет вместе со мной…»
Будни без Гранта в маленьком захудалом городишке были для нее пыткой: школьная «банка», до верху наполненная учительской «икрой», куда она, закончившая филфак, была втиснута распределением, внимательно следила за ней во все по рыбьи, пустые мещанские глаза. Осудить ее за что-то было невозможно: она блестяще давала уроки, одевалась скромно, но… тосковала.
«- Таня, а как с французским?»
(Ей дали несколько часов английского, да еще взвалили на безотказную девушку работу пионерважатой).
«- Уроки все равно ничего не дадут. Без постоянной практики язык забывается».
Но не хотел забыться, и почему-то не ехал Грант! Ведь все было решено – они вместе навсегда, они – одно, и было еще одно живое существо, что билось под сердцем девушки-стрелы.
Некоторое время мы встречались, хотя мои книги на ладони были длинней и… какими-то сиротскими, обыденными. Но судьба все же хотела, чтобы наши линии ненадолго переплелись.
Однажды осенний парк снова осветили сияющие глаза-«блюдца», а за плечами, как крылья, летело синее кружево шарфа. Но ее полет сдерживала плетеная коляска! А из коляски на мир удивленно смотрели два агата, оттененные такой же синей вязаной шапочкой…
Таня излучала покой, в ней до краев плескалось счастье. И это…Настораживало! Казалось, что где-то за плечом девушки-стрелы на бреющем полете летит поодаль… антирадость. Все счастливым, оглохшим от счастья, нужно вслушиваться: не вкралась ли случайно в волшебную музыку любви режущая слух нотка, возвещающая о близком горе? Но где там!
Иногда они шли втроем. И тогда его агаты купались в глазах-блюдцах Татьяны. А он с горечью говорил о ненужности его дела здесь, в провинциальном затхлом городке.
Играть в четыре руки стало невозможно: старенькое фортепиано Тани не вмещалось в «избушку на курьих ножках» бабушки, прикованной к постели. И парка, залитого радостным светом золотой листвы, уже не было. Синий шарф бесследно растворился в золоте кленов. И даже минимальный уют был невозможен в крохотной двухкомнатной квартирке, в которой подросший человечек с агатовыми глазами ломал и портил все, до чего могли дотянуться пытливые ручонки.
Таня тонула в убогом пространстве жизни, лишенном воздуха и света, где рухлядь, столь дорогая сердцу больной бабули, мешала не только ходить. Она мешала дышать, думать и чувствовать. Душила, давила на грудь…
Таня работала уже в другой школе, где ей наконец-то дали вести французский. Но школа находилась слишком далеко, и даже гибкой девушке-стреле стало трудно преодолевать это мешающее ее свободе расстояние, попутно пытаясь построить свою жизнь. Ее руки вытянулись от непосильной тяжести ведер – в «избушке» не было водопровода. А воды нужно было так много - стирать, гладить, топить печь, вести дочь в ясли, бежать на работу, рискуя собственной жизнью, через разветвленное железнодорожное полотно. По крайней мере, так ей удавалось сэкономить лишних полчаса.
Грант любил Таню по-прежнему, и каждая ночь превращалась в рай, но день оборачивался адом: ему действовал на нервы тусклый городишко. Грант был совершенно лишен жалости к Тане! В их народе не принято браться за женскую работу – это унижает мужское достоинство: «Какая посуда? Какие полы? Таня, ты с ума сошла?!» И глаза-блюдца тускнели…
Оставался еще аккордеон. Один он открывал ей маленькую форточку в другую, светлую жизнь, заставляя забыть бои за часы в школе, дочкины болезни и ссоры с суровыми родителями, которые не могли понять, почему Грант не работает. «Как он посмел взвалить все хозяйство на твои хрупкие плечики?» К сожалению, верный друг-аккордеон сыграл ту страшную, траурную ноту реквиема ее коротенькой жизни: он напомнил ей о койке в больничной палате, и та почему-то стала мечтой: выспаться!
В этот день ничего особенного не произошло. Одевшись, как всегда аккуратно, положила в карман квадратик картона с именем знакомого доктора и побежала учить детей французскому - английскому. День был короткий, но ей нужно было поспеть к врачу, и она стрелой полетела через железнодорожные пути…
Говорят, что после того, что случилось - я не захотела видеть ее мертвой, - она продолжала удивленно смотреть в пустое небо...
Выспаться. Ее мечта исполнилась. Так страшно. Так неожиданно.
А учителя-коллеги, лицемерно поохав и, конечно же, переругавшись, в тот же день разделили Танечкины часы.
«Знать, что ты совершенство, знать, что ты идеал…» - эта смешная песенка из детского фильма стала лейтмотивом ее жизни.
Как удар грома, на факультете прозвучало: открывается спецкурс старофранцузского! Успешно закончившие спецкурс студенты отправятся в Париж! Ах, Франция! Вот где ее действительно могли оценить! Она яростно вгрызлась в спецкурс. Увидеть Эйфелеву башню, побывать на Монмартре, посидеть в кафешках, где Хэмингуэй писал чудные, любимые ею строчки!
Она читала о Фернане Леже и Сальвадоре Дали, она вся была уже там… Девочка. Открой ладонь и рассмотри ее линии. «Не видать тебе Франции, а Франция не увидит тебя», - сказала Тане обыкновенная «свинка» грубым языком медицины: «паротит».
Таня с ужасом смотрела на себя в зеркало, а в нем отражались предательские отвисшие свиные щеки и опухшая шея. И однажды так закричала, что остановить этот крик стало возможно только с помощью сильно действующих успокаивающих препаратов…
Она бродила по палате, вяло перебирая клавиши аккордеона. Лилась тихая, грустная музыка, но не тридцатипятилетняя Ксюша с пальцев во рту, ни тем более бабка, которая, заметив в линолеуме дырочку, зачем-то старалась изо всех сил расковырять ее пошире. Да и другие обитатели палаты не восхищались ее жалобными «ми-ми-фа…»
Врачи называли ее «девушка с аккордеоном». Они жалели ее, аккуратно и добротно лечили, потому что знали – она излечима. Но именно тогда Таня почему-то стала смотреть сквозь все и вся, ничего не видя…
Осенний ветерок парижских окраин овевал ее бледные щеки, а свинцовая Сена манила к себе. Но все это видела только Таня.
А вокруг были галдящие свое люди-шлак и постельное белье, к которому она боялась прикасаться. Она давала себе полный отчет, что в куче шлака лежит и она, а Париж навсегда потерян.
Одноклассник-лейтенант, грезивший о ней с первого класса и красневший от одного взмаха ее ресниц, уговаривал всю осень следующего года уехать с ним. Он любит. Будет любить до конца жизни. Таня гордилась… совсем чуть-чуть: видный, статный, но… Это – не любовь!
У вежливого отказа были свои причины. Безумное, волшебное лето... Сначала, бродя у моря, лежа рядом с надоевшей подругой, она скучала. Но, как-то раз, выходя из воды, задела своими сияющими озерами-«блюдцами» вишневые агаты… И больше не существовало ни моря, ни солнца. Агатовые глаза – тонкая линия на ладошке Танечки… Эти глаза сыграли роль тяжеленной гири на чаше весов судьбы бывшей «девушки с аккордеоном», и старшей лейтенант с горечью в сердце уехал один на край света – на остров Сахалин.
«- Ты умеешь играть в четыре руки на рояле? Я знаю, умеешь!
- Да. Но откуда ты знаешь?
- Ты сама музыка…»
Более красивого признания в любви ей не делал никто. В холле гостиницы, где жил Грант, стоял старенький инструмент, дорогой, видимо, хорошо и любовно настроенный кем-то. Они сыграли Брамса, затем – Моцарта. Они уже не смогли расстаться. Так и поднялись, держась за руки, по лестнице, неотрывно глядя друг другу в глаза, так что администраторша от этого видения онемела и забыла, зачарованная чужой любовью, спросить документы у незваной гостьи.
Да, она была сама музыка, но и он был музыкой, то тихо шелестевший ей дорогие слова, - россыпь драгоценных камней царя Соломона для обожженной солнцем Суламифи, то - посапывавший на ее хрупком плече.
Армянская кровь текла в смуглом, красивом мужчине, а Таня светилась, как огонек свечи у образов. Пара приковывала к себе внимание всего курортного городка.
Отдыхающие держали пари: как долго они будут держать друг друга за руки? Это красивое чувство стало вечностью – разве возможно дождаться конца Вечности? «Он живет только во мне, и умрет вместе со мной…»
Будни без Гранта в маленьком захудалом городишке были для нее пыткой: школьная «банка», до верху наполненная учительской «икрой», куда она, закончившая филфак, была втиснута распределением, внимательно следила за ней во все по рыбьи, пустые мещанские глаза. Осудить ее за что-то было невозможно: она блестяще давала уроки, одевалась скромно, но… тосковала.
«- Таня, а как с французским?»
(Ей дали несколько часов английского, да еще взвалили на безотказную девушку работу пионерважатой).
«- Уроки все равно ничего не дадут. Без постоянной практики язык забывается».
Но не хотел забыться, и почему-то не ехал Грант! Ведь все было решено – они вместе навсегда, они – одно, и было еще одно живое существо, что билось под сердцем девушки-стрелы.
Некоторое время мы встречались, хотя мои книги на ладони были длинней и… какими-то сиротскими, обыденными. Но судьба все же хотела, чтобы наши линии ненадолго переплелись.
Однажды осенний парк снова осветили сияющие глаза-«блюдца», а за плечами, как крылья, летело синее кружево шарфа. Но ее полет сдерживала плетеная коляска! А из коляски на мир удивленно смотрели два агата, оттененные такой же синей вязаной шапочкой…
Таня излучала покой, в ней до краев плескалось счастье. И это…Настораживало! Казалось, что где-то за плечом девушки-стрелы на бреющем полете летит поодаль… антирадость. Все счастливым, оглохшим от счастья, нужно вслушиваться: не вкралась ли случайно в волшебную музыку любви режущая слух нотка, возвещающая о близком горе? Но где там!
Иногда они шли втроем. И тогда его агаты купались в глазах-блюдцах Татьяны. А он с горечью говорил о ненужности его дела здесь, в провинциальном затхлом городке.
Играть в четыре руки стало невозможно: старенькое фортепиано Тани не вмещалось в «избушку на курьих ножках» бабушки, прикованной к постели. И парка, залитого радостным светом золотой листвы, уже не было. Синий шарф бесследно растворился в золоте кленов. И даже минимальный уют был невозможен в крохотной двухкомнатной квартирке, в которой подросший человечек с агатовыми глазами ломал и портил все, до чего могли дотянуться пытливые ручонки.
Таня тонула в убогом пространстве жизни, лишенном воздуха и света, где рухлядь, столь дорогая сердцу больной бабули, мешала не только ходить. Она мешала дышать, думать и чувствовать. Душила, давила на грудь…
Таня работала уже в другой школе, где ей наконец-то дали вести французский. Но школа находилась слишком далеко, и даже гибкой девушке-стреле стало трудно преодолевать это мешающее ее свободе расстояние, попутно пытаясь построить свою жизнь. Ее руки вытянулись от непосильной тяжести ведер – в «избушке» не было водопровода. А воды нужно было так много - стирать, гладить, топить печь, вести дочь в ясли, бежать на работу, рискуя собственной жизнью, через разветвленное железнодорожное полотно. По крайней мере, так ей удавалось сэкономить лишних полчаса.
Грант любил Таню по-прежнему, и каждая ночь превращалась в рай, но день оборачивался адом: ему действовал на нервы тусклый городишко. Грант был совершенно лишен жалости к Тане! В их народе не принято браться за женскую работу – это унижает мужское достоинство: «Какая посуда? Какие полы? Таня, ты с ума сошла?!» И глаза-блюдца тускнели…
Оставался еще аккордеон. Один он открывал ей маленькую форточку в другую, светлую жизнь, заставляя забыть бои за часы в школе, дочкины болезни и ссоры с суровыми родителями, которые не могли понять, почему Грант не работает. «Как он посмел взвалить все хозяйство на твои хрупкие плечики?» К сожалению, верный друг-аккордеон сыграл ту страшную, траурную ноту реквиема ее коротенькой жизни: он напомнил ей о койке в больничной палате, и та почему-то стала мечтой: выспаться!
В этот день ничего особенного не произошло. Одевшись, как всегда аккуратно, положила в карман квадратик картона с именем знакомого доктора и побежала учить детей французскому - английскому. День был короткий, но ей нужно было поспеть к врачу, и она стрелой полетела через железнодорожные пути…
Говорят, что после того, что случилось - я не захотела видеть ее мертвой, - она продолжала удивленно смотреть в пустое небо...
Выспаться. Ее мечта исполнилась. Так страшно. Так неожиданно.
А учителя-коллеги, лицемерно поохав и, конечно же, переругавшись, в тот же день разделили Танечкины часы.