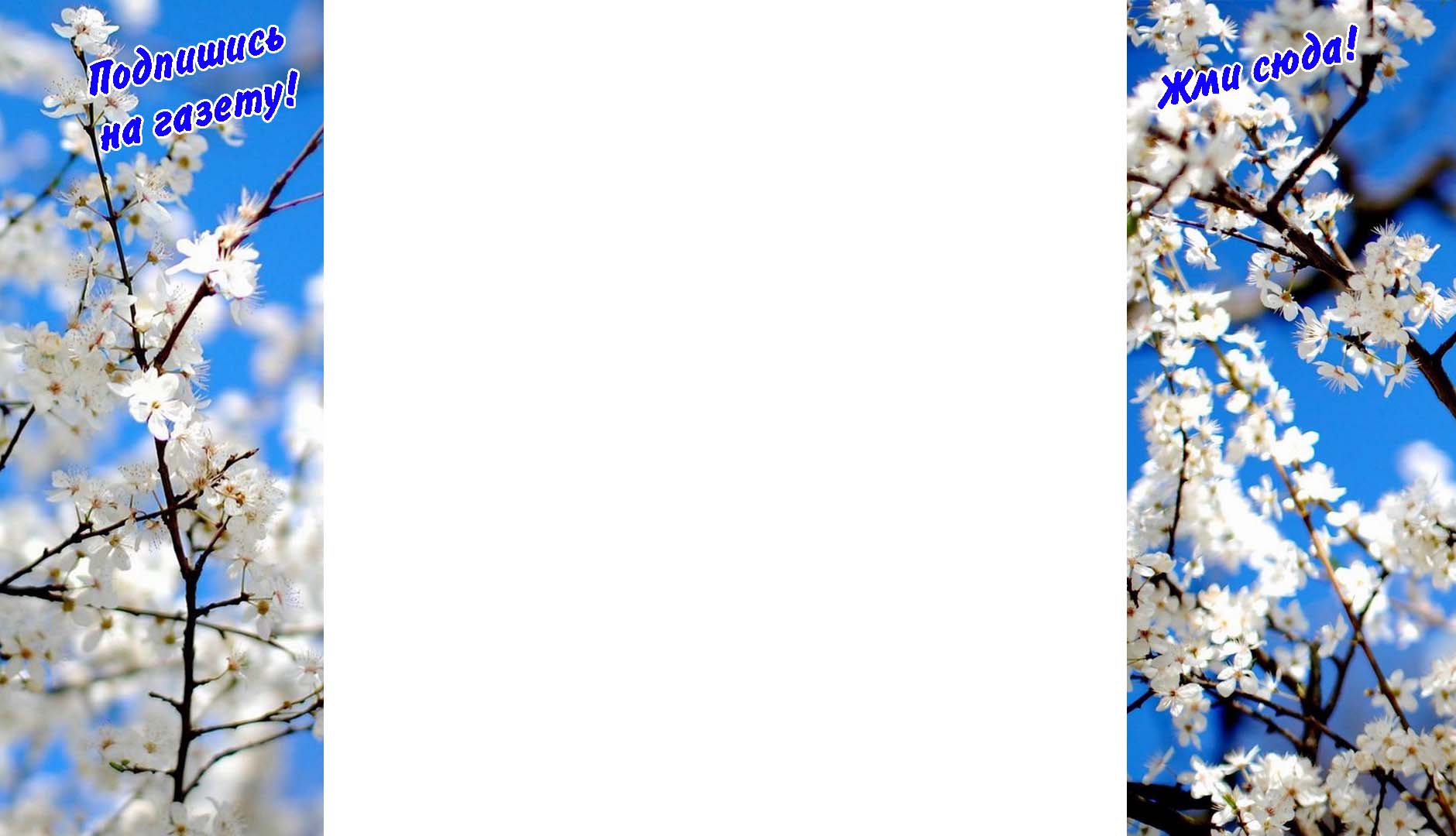Некоторые фотографии были почти коричневыми, иные - пожелтевшими, с оборванными краями. Их было очень много. Вот Лиза, моя мама, и ее подружка Нина стоят у дверей кирпичного здания, придерживая рукой дверь магазина. Кокетливая вывеска на немецком прямо-таки кричала, что это - магазин женского белья. Обе девушки с завивкой "перманент" и модных пальто. На их шеях красуются дорогие шелковые платочки.
Вот - упитанные, с челочками, по-голливудски улыбчивые девахи, одетые по моде 40-х годов: в белых кофточках, черных сарафанах с галстуками и с прическами волосок к волоску.
Другая фотография держала в фокусе стайку кудрявых красивых девушек, недурно одетых. Девчушки в первом ряду лежали прямо на земле, соприкасаясь золотистыми кудряшками, и улыбались, улыбались, улыбались... А в центре стоял средних лет мужчина с пятилетней малышкой на руках.
У некоторых персонажей снимков почему-то были... выколоты глаза. Как правило, у мужчин, одетых в белые воскресные рубахи - апаш и темные, чуть великоватые брюки.
Но особенно поражала одна фотография: двухэтажный дом, на аккуратно подстриженной лужайке стоят пятеро - высокий худой мужчина в штатском, сухопарая женщина и двое детей – мальчик лет одиннадцати с красиво зачесанными назад светлыми волосами и девочка лет пяти. Было видно, что она игривая и непоседливая. Полненькая Лиза с двумя тяжеленными косами, переброшенными через плечо, коротковатом платьице и туфельках на высоких каблуках, едва удерживает эту рвущуюся куда-то неугомонную девчонку…
Все пожелтевшие от времени фото датированы 1943-м годом.
Почему были выколоты глаза господ "паулей", объяснялось просто. Это сделал муж Лизы. Почему она бережет эти снимки, тоже было понятно: это - часть ее жизни, и никуда ее не выбросишь. Жизнь есть жизнь.
В моей голове не укладывалось, как можно было безмятежно позировать фотографу в то время, когда в белорусских, смоленских и брянских деревнях в амбарах сжигали грудных младенцев и старух, когда на полях Родины сражались танковые дивизии, а с неба падали пылающие самолеты... Здесь - людское горе, а там - ямочки на пухлых щеках и кокетливые улыбки...
Из-за этих, так тщательно оберегаемых Лизой фотографий в семье моего отца часто случались ссоры и даже драки.
Происхождение моих пестреньких волос, которые сегодня называют модным словом "мелирование", объяснялось в отсутствии мамы грубо, с деревенской простотой:
- Сколько батек, столько и прядей (а прядки-то были от белокурых до темно-русых), - любила говаривать невестка, украинка Катя.
И хоть я знала, что к немцам причастной быть не могу, ведь родилась-то я в конце 1949 года, мне становилось больно.
А бабка Уля наотрез отказалась принимать Лизу. Злопамятная старуха наотрез отказывалась отзываться на "маму", а Елизавете, дорогобужской детдомовке, так хотелось называть кого-нибудь мамой...
Она тихонечко рассказывала мне, что в Дорогобуже была уничтожена молодежная группа "Юнногвардейцев", которая нанесла значительный урон немцам. Мамочка не была причастна к ней, и даже перед приходом фашистов в Дорогобуж зарыла свой комсомольский билет в саду под яблонями, росшими у халупы, куда ее расквартировали после ликвидации детдома.
«- На шею нам бросили голь безродную», - говорила добрая, но не очень довольная хозяйка дома, где жила приживалкой пятнадцатилетняя Лиза.
"А почему ты не ушла к партизанам? - спрашивала я с тоской. - А кому я была нужна? Да и где они были, эти партизаны?" - "Но ведь были же "Юнногвардейцы», они бились с врагом?!" - "Туда брали не всех, а наш детдом был битком набит детьми репрессированных". - "Как это - репрессированных?" - "А это когда пропадали неизвестно куда родители, а дети оставались в доме одни, плакали, голодали. А потом приходили сердитые тетки, давали детям другие фамилии и отправляли в приемники-распределители. Оттуда стриженых под "ноль", одетых в лохмотья ребят и отправляли в детдома, разбросанные по всей стране. Меня разлучили с братиком, я получила фамилию "Абрамова". Сказали, чтобы я забыла прежнюю, а то хуже будет. Так я оказалась на Смоленщине, сначала в Духовщинском, потом в Дорогобужском детском доме". - "И все-таки, почему ты не подалась к партизанам?!" - "Я была болезненной, худенькой девочкой маленького роста, а тетка, которой меня передали, за кусок хлеба учила меня проявлять усердие, работая в хлеву". "Забудешь и пианино, и геометрию, - беззлобно приговаривала она. - Ты сирота, тебе надо быть поскромнее, барские замашки больше не понадобятся".
Вот - упитанные, с челочками, по-голливудски улыбчивые девахи, одетые по моде 40-х годов: в белых кофточках, черных сарафанах с галстуками и с прическами волосок к волоску.
Другая фотография держала в фокусе стайку кудрявых красивых девушек, недурно одетых. Девчушки в первом ряду лежали прямо на земле, соприкасаясь золотистыми кудряшками, и улыбались, улыбались, улыбались... А в центре стоял средних лет мужчина с пятилетней малышкой на руках.
У некоторых персонажей снимков почему-то были... выколоты глаза. Как правило, у мужчин, одетых в белые воскресные рубахи - апаш и темные, чуть великоватые брюки.
Но особенно поражала одна фотография: двухэтажный дом, на аккуратно подстриженной лужайке стоят пятеро - высокий худой мужчина в штатском, сухопарая женщина и двое детей – мальчик лет одиннадцати с красиво зачесанными назад светлыми волосами и девочка лет пяти. Было видно, что она игривая и непоседливая. Полненькая Лиза с двумя тяжеленными косами, переброшенными через плечо, коротковатом платьице и туфельках на высоких каблуках, едва удерживает эту рвущуюся куда-то неугомонную девчонку…
Все пожелтевшие от времени фото датированы 1943-м годом.
Почему были выколоты глаза господ "паулей", объяснялось просто. Это сделал муж Лизы. Почему она бережет эти снимки, тоже было понятно: это - часть ее жизни, и никуда ее не выбросишь. Жизнь есть жизнь.
В моей голове не укладывалось, как можно было безмятежно позировать фотографу в то время, когда в белорусских, смоленских и брянских деревнях в амбарах сжигали грудных младенцев и старух, когда на полях Родины сражались танковые дивизии, а с неба падали пылающие самолеты... Здесь - людское горе, а там - ямочки на пухлых щеках и кокетливые улыбки...
Из-за этих, так тщательно оберегаемых Лизой фотографий в семье моего отца часто случались ссоры и даже драки.
Происхождение моих пестреньких волос, которые сегодня называют модным словом "мелирование", объяснялось в отсутствии мамы грубо, с деревенской простотой:
- Сколько батек, столько и прядей (а прядки-то были от белокурых до темно-русых), - любила говаривать невестка, украинка Катя.
И хоть я знала, что к немцам причастной быть не могу, ведь родилась-то я в конце 1949 года, мне становилось больно.
А бабка Уля наотрез отказалась принимать Лизу. Злопамятная старуха наотрез отказывалась отзываться на "маму", а Елизавете, дорогобужской детдомовке, так хотелось называть кого-нибудь мамой...
Она тихонечко рассказывала мне, что в Дорогобуже была уничтожена молодежная группа "Юнногвардейцев", которая нанесла значительный урон немцам. Мамочка не была причастна к ней, и даже перед приходом фашистов в Дорогобуж зарыла свой комсомольский билет в саду под яблонями, росшими у халупы, куда ее расквартировали после ликвидации детдома.
«- На шею нам бросили голь безродную», - говорила добрая, но не очень довольная хозяйка дома, где жила приживалкой пятнадцатилетняя Лиза.
"А почему ты не ушла к партизанам? - спрашивала я с тоской. - А кому я была нужна? Да и где они были, эти партизаны?" - "Но ведь были же "Юнногвардейцы», они бились с врагом?!" - "Туда брали не всех, а наш детдом был битком набит детьми репрессированных". - "Как это - репрессированных?" - "А это когда пропадали неизвестно куда родители, а дети оставались в доме одни, плакали, голодали. А потом приходили сердитые тетки, давали детям другие фамилии и отправляли в приемники-распределители. Оттуда стриженых под "ноль", одетых в лохмотья ребят и отправляли в детдома, разбросанные по всей стране. Меня разлучили с братиком, я получила фамилию "Абрамова". Сказали, чтобы я забыла прежнюю, а то хуже будет. Так я оказалась на Смоленщине, сначала в Духовщинском, потом в Дорогобужском детском доме". - "И все-таки, почему ты не подалась к партизанам?!" - "Я была болезненной, худенькой девочкой маленького роста, а тетка, которой меня передали, за кусок хлеба учила меня проявлять усердие, работая в хлеву". "Забудешь и пианино, и геометрию, - беззлобно приговаривала она. - Ты сирота, тебе надо быть поскромнее, барские замашки больше не понадобятся".
Крутой маршрут
"Фашисты летом 1942 года были озверевшими, - рассказывала дальше мамочка. - Они "подмели" оставшуюся в живых молодежь и, затолкав в "телячьи" вагоны, повезли в "Дойчланд", которая очень нуждалась в крепких русских девушках и парнях. В семье тетки, у которой я жила, было две дочери. И я - пришлая, чужая. Из каждого дома в рабство забирали по одному человеку: тетка продала меня. Но так поступил бы каждый, я не могу ее обвинять... Она снабдила меня теплой одеждой, дала подушку, собрала в узелок еды и долго плакала, когда немец потащил меня за руку в машину.
В Орше нас «отсортировали»: "юде" (среди них оказалась моя единственная подружка Октябринка) посадили в другие вагоны, побросав узлы и чемоданы на землю. А нас, русских по виду, повезли дальше. Мы плакали и думали только о смерти: нас ничем не кормили, несколько девушек умерли от голода и обезвоживания, и их, закостеневших, не выдержавших тяжкого пути, выбросили прямо на насыпь где-то в Германии.
Дюссельдорф встретил пленников теплым ливнем. Парней и девчонок выгнали из вагонов, и мы наконец-то "вымылись" под хлесткими струями ливня. Это было приятно, радостно... А когда обсохли, повели на "рынок", где толстые немцы щупали наши мышцы, совали свои волосатые сарделечные пальцы в рот, и иногда говорили: "Гут!" Один белобрысый, упитанный, пропахший навозом дядька купил меня и еще одну девушку за пятнадцать марок.
Наша жизнь начала потихоньку "налаживаться", хоть мы и жили в довольно теплом хлеву и ели из одного корыта душистое варево вместе с огромными хозяйскими свиньями. Свиньи ревниво следили за нашими жалкими попытками выловить из грязного корыта что-нибудь съедобное, и грозно щелкали челюстями, словно крокодилы какие...
Но фрау была доброй, улыбчивой. Она даже отдала нам старую одежду и не старалась хлопнуть по заднице, как это нередко делал бауэр. Фрау нам казалась просто красавицей, высокой, статной, которой вряд ли могли придти в голову мысли приревновать своего жирного мужа к нам, полупрозрачным «теням».
Но Зина, которой "свинский" рацион пошел на пользу, неожиданно округлилась, да и одежда фрау сидела на ней ловчей, чем на мне. Однажды похотливый бауэр подкараулил ее в сенном сарае. Хозяйка услышала крики, пришла на помощь несчастной девушке и... На следующее утро ревнивая женщина усадила нас в фуру и лично отвезла на невольничий "рынок", где торговали людьми. И продала подороже, чем купил нас ее провинившийся муженек".
«Тени» и черепица
«В Дюссельдорфе только что построили черепичную фабрику. Требовались рабочие руки. Хозяин фабрики с ходу купил сотню девушек, и мы оказались за оплетенными колючей проволокой воротами "остлагеря", соединенного с фабрикой. Лагерь представлял собой ряд бараков с тройными нарами вдоль стен. В покатой крыше были маленькие окошечки синего цвета, и поэтому в бараке всегда царил полумрак».
На нарах лежали тюфяки, набитые человеческим волосом. Мама потрогала свои толстые пшеничные косы и заплакала, потому что непослушные черные вьющиеся прядки, выбивающиеся из дыры в грубом холсте, напомнили ей об Октябрине…
Подушек не было, зато были тонюсенькие одеяльца и спецодежда: куртки мышиного цвета и комбинезоны в серую и черную полоску. А еще бумажные чулки и деревянные колодки.
Каждой показали ее "апартаменты", нарисовали химическим карандашом несмываемый номер на руке (такой же был и на нарах) и повели мыться. Хозяин любил чистоту, чистоту и еще раз чистоту.
По дороге встречались немцы. Одни хмурились и даже плевались, а другие (в основном, женщины) бросали в строй девушек удивительные длинные батоны. Драк из-за хлеба не было: хозяин, прежде чем навести чистоту, довольно сносно покормил рабынь.
"А то еще упадут в обморок в душевой", - сказал он конвоиру-инвалиду, молодому парню с деревяшкой вместо левой ноги. Инвалид опирался на костыль, этим костылем он погонял девушек - винтовки у него не было.
"Войдя в ворота другого лагеря, мы увидели настоящий ад: русские пленные, прозрачные, как тени, таскали бревна, рельса. У них... не было лиц. Вернее, одно лицо на всех: черные провалы глаз, щек, ввалившиеся, как у стариков, рты.
"Транспорт?" - спросил у одноногого эсэсовец, открывший ворота ада. - "Найн. Душ", засмеялся одноногий, а эсэсовец, хлыстом указав на закопченную квадратную трубу, из которой выбивались жирный дым, - еще раз кивнул одноногому. Тот покачал головой: "Душ! Мыться!"
Горячая вода, маленький кусочек мыла и полотенце размером с носовой платок совершили чудо: девушки вышли из бани свежие, приободренные. Правда, все были одеты в мерзкую серую одежду и неудобные, выворачивающие стопы деревянные башмаки, но волосы им не остригли! И даже дали выспаться.
В пять утра завыли сирены и, мешая русские, польские, немецкие слова девушкам объяснили, что они приехали не на курорт. Немцам нужна черепица для их будущих замков и домов на Востоке. А потом им выдали полбанки кошмарного кофе и четырнадцать граммов хлеба (норма на день!) и отправили на конвейер. На конвейере рабыни трудились по 14 часов в сутки. Работа была опасной. Рядом с узницами стоял чан с краской, лента конвейера бежала быстро.
Нужно было схватить полусырую черепицу, окунуть в краску и, не измазавшись (грязнуль били хлыстом на козлах, поставленных посреди лагеря), уложить на движущуюся ленту. Кандалы мешали. Лизе они были сильно велики. Как-то раз, неловко повернувшись, она вывихнула ногу. Надзиратель, увидевший пустую ленту конвейера, подбежал к рабыне и начал хлестать ее особым хлыстом - со свинцовыми вставками. Лиза не стерпела унижение, и сама выругалась - хлестко, по-русски. Но надзиратель хорошо знал русские ругательства и поволок ее за ворота. "Только бы не туда, где бродят "тени", где "газ" и квадратная, время от времени изрыгающая жирный черный дым труба!.."
Но все обошлось: ее привели к врачу. Тот посопел, дернул за ногу и... довольно ловко вправил вывих! Лизе было больно, она шла обратно, подталкиваемая в спину конвоиром, но душа ее ликовала: "Не на "газ"! Не на "газ"!"
Мыть водили часто - раз в месяц. Конвоир – «деревяшка» непременно присутствовал при мытье, с гнусной ухмылкой комментируя прелести девок, и иногда награждал какую-нибудь хорошенькую девчонку увесистым шлепком ниже пояса. Этих девок за "особые услуги" он иногда отпускал за ворота попрошайничать, и те приносили кусочек колбасы или рассыпчатую ванильную булку. Но с подругами делились не всегда. Слишком дорого им доставались эти радости жизни: конвоир брал плату натурой, а беременных всегда отправляли на "газ". Несчастье случилось с единицами - инвалид, видимо, потерял на Восточном фронте не только ногу...
Рассказ о десяти повешенных
Один раз гудок, оповещавший об окончании каторжной работы, почему-то прозвучал раньше. Всех быстро собрали на плацу. Черепичниц поставили отдельно от работниц военного завода - высохших, желтых, похожих на скелеты украинок. За собой они не следили, и на нарах у них вместо жиденьких матрасов и одеял была солома. Лиза с испугом смотрела на этих женщин - стриженые наголо «тени» в полосатых робах внушали ужас! Из толпы украинок вырвали с десяток человекоподобных созданий, и лощеный эсэсовец начал хлестать их стеком напропалую, выкрикивая гортанные ругательства.
А потом - жуткая тишина. Переводчик, указав на избитых рабынь, объяснил, что "все они будут ликвидированы, поскольку нанесли Третьему Рейху непоправимый ущерб - подсыпали песок в заряды бомб». А бомбы, естественно, не взрывались. Девушки завыли в голос, но одна из них, с горящими от ненависти глазами, обернулась к ним и крикнула: "Хай живе Украина!" Плач сразу прекратился: они знали, на что шли.
А черепичницы тихо всхлипывали...
Украинок поволокли к виселице в центре площади. Первой повесили ту, что пожелала долгой жизни родной Украине... Потом вздернули всех остальных. Они висели долго, воронье выклевало у них глаза, жалкие тела распухли...
Одноногий, тыча пальцем в сторону виселицы, намекал черепичницам, что и им обеспечен "акробатический этюд" с веревкой, если черепицу хоть раз признают негодной.
Остальных украинок той же ночью отправили в газовые камеры - прибыл транспорт со свежей рабсилой. Привезли смирных полек. Хоть и пылала Варшава, глаза у них были тихи, как голубые озера. Польки искренне надеялись на чудо и сопротивляться "новому порядку" не хотели. С тех пор никто не засыпал в заряды бомб песок...
Черепичницы, испуганные реальной возможностью "станцевать" на виселице, боялись допустить брак, и черепица вышла отменной. Вот тогда-то хозяин фабрики и решил увековечить своих рабынь и себя на их фоне, - пригласил фотографа. Девушкам раздали потрепанную, но очень красиво сшитую одежду, заставили красиво причесаться.
Хозяин, очень довольный, вышел на крыльцо фабрики с девчушкой - пятилеткой и фрау, только что вернувшейся из парикмахерской. Уж больно ладно лежали на ее головке кудряшки!
Сказал пару фраз фотографу, и тот быстро расставил девушек, пригласив барина с дочкой и фрау в первый ряд. Лизу и еще одну невысокую, но очень симпатичную девушку, положили в центре, у ног хозяина, - голова к голове.
Фотография была маленькой, и на ней совершенно не читались выражения лиц - все одинаково, по приказу, улыбались... Фотку на память раздали 35 «улыбчивым» черепичницам. Не до улыбок им было: на фабрику прибыло 150 невольниц, выжила лишь пятая часть!
Внизу, у самой кромки обрезанной фестончиками фотографии стояла подпись: "1943 год"... Именно эта дата и счастливые улыбки на снимке и вызывали негодование семьи. Кому расскажешь, кто тебя поймет, что из-за высокой температуры и гнойного нарыва - следствие авитаминоза, - Лиза трижды стояла в очереди в газовую камеру! Но каждый раз ей чертовски везло, и "газ" откладывали. То очередь не дошла, то врачиха добрая оказалась...
Зато у черепичниц на память об этом событии остались не только фото, но и модные платья. Хозяин побрезговал забрать одежду.
Однажды Ганс - "деревяшка" выпустил за ворота фабрики Зину и Лизу:
- "Ты похожа на мою младшую сестру", - сказал он белокурой Лизе. В тот день они снова сфотографировались, их "щелкнул" вольнонаемный голландец в шикарном костюме, который тоже мастерил на фабрике черепицу. Но не шикарные костюмы волновали сердца голодных девочек: щедрые голландцы делились с ними едой - нарезали ароматный "брот", колбасу, масло... Голландские "броты" с тонким слоем маслом спасли многих. Другие, кому их так и не удалось заполучить, умерли от истощения - на брюкве и эрзац-хлебе (когда его ешь, на зубах хрустит песок), долго протянуть было невозможно.
История Зины
У Лизы в альбоме сохранилась еще одна фотография: растрепанная девушка в пестром коротеньком платьице сжалась в объятиях "пауля" в парке. А дата все та же: 1943 год! Вот этому-то "паулю" и выколол ножницами глаза муж, хотя Лиза убеждала его, всхлипывая, что ее заставили сняться за кусок черного хлеба.
Был еще один снимок: между двух деревьев стоит очаровательная, в пиджачке явно не по росту, в кокетливом беретике набок, удивительно красивая девушка, и опять эти роковые цифры - 1943 год!
Лиза со слезами на глазах поведала ее судьбу. Однажды, во время мытья в душевую ворвались эсэсовцы из концлагеря, и, хотя одноногий головой отвечал за количество приведенных в баню девушек, грубо оттолкнули инвалида в сторону, не стали слушать его мольбы, убеждения и просьбы и увели с собой грудастую Зину. Ту, что на снимке обнимала немецкие березки...
Она не вернулась.
А расстроенный инвалид Ганс, прихлебывая шнапс из фляжки, рассказал, что эсэсовцы, вдоволь натешившись с Зиной, отрезали ей груди. И отволокли девушку в барак смертников, где та истекла кровью и умерла. Пьяненький Ганс показывал на небо и, заикаясь, мычал: "Сегодня ее сожгли. Печка в Дюссельдорфском концлагере без дела не стоит..."
И теперь красивая Зиночка "живет" только в моей памяти да в воспоминаниях старенькой мамы. А еще на старенькой, меньше ладошки, пожелтелой, измятой фотографии...
Вот и еще одна фотография. Без даты. Две молоденьких девушки в добротных пальто с кудрявыми волосами стоят на крылечке кирпичного здания. Мама рукой в перчатке держится за дверную ручку. На лицах - счастливые улыбки, девушки радостно и смело, с вызовом смотрят в объектив фотоаппарата.
Это фото также вызывало особое негодование моих родственников!
Но мама рассказала мне "историю" снимка. Видимо, только я и поверила в истину момента, запечатленного на желтой фотобумаге в 1945 году. Мама в Париже, и очень скоро окажется после дознаний сотрудников СМЕРШа в Брянской области с "волчьим билетом", где будет валить лес в лагере по соседству с пленными немцами, ждущими освобождения, которое наступит в 1948-м году.
Вполне возможно, что именно эти фотографии и сыграли главную роль в получении "волчьего билета": кому докажешь? Была страшная и грязная война, а тут - жизнерадостные снимки! Все понятно?!
Выбор сделан
Американцы, освободившие Дюссельдорф и увидевшие оставшихся в живых "теней" и выжатых, как лимон, черепичниц, увезли их на Атлантическое побережье в санаторий. И там, конечно, многие измученные души, несмотря на старания врачей, ушли в небытие... Но мамочка, просидевшая в углу палаты неделю - нервы не выдержали, - выздоровела. А щедрые американцы разрешили им выбрать на немецком складе, где хранилось свезенное со всей Европы добро, что мученической душе было угодно... Выдали по два вместительных чемодана... И хотя душе было трудно смотреть на прекрасные вещи погубленных нацистами людей, они все же набили чемоданы кофточками, плащами, пальто, туфлями - им предстояло жить!
Американцы даже свозили бывших узниц в Париж и Вену, чтобы передать их нашим, хоть и предупреждали, что придется им трудно, и лучше было бы для них уехать в Америку... Но разве можно было на это решиться? Впрочем... Некоторые решились. Одни вышли замуж за "паулей" и остались в Голландии, а некоторые укатили в Америку с неграми (!). Но это - другие, а мама помнила свой любимый довоенный Дорогобуж, любимого ровесника Васю (так и сгинувшего в этой жестокой войне). Они были для нее Россией, куда ей очень-очень хотелось вернуться...
Благодетель Франц Райдлер, Петер, Лизхен и другие
Осталась «неразгаданной» лишь одна фотография, датированная 1943-м годом. Семья на лужайке перед домиком с застекленным вторым этажом. Мама, хоть и стоит немного сбоку, но выглядит прекрасно: чудесное платье сидит, как влитое, пшеничные косы, полненькие ножки... Она... будто гувернантка толстенькой, капризной девочки, которая стоит возле нее.
Вздыхая, мама рассказывает и эту историю своей жизни. Здесь ей шестнадцать лет, и временное благополучие военной поры коснулось и ее.
Главному инженеру черепичной фабрики нужна была домработница. Жена никак не могла справиться с маленьким чудовищем по имени Лизхен и просила мужа найти ей помощницу по дому, желательно неиспорченную, возможно даже русскую. Франц Райдлер думал недолго. Прошелся на плацу по рядам истощенных, худеньких, рано состарившихся русских девушек, чем-то напоминающих его истеричную жену. Но вдруг его внимание привлекли белокурые волосы, непокорно выбивавшиеся из-под серой косынки. Уродливый комбинезон не сумел скрыть вызывающих форм этой маленькой, но, видимо, очень энергичной девчонки. Он приказал конвоиру привести девушку в специальную комнату, где довольно долго с ней разговаривал. Она бойко, но боязливо отвечала ему на немецком, лихо замешанном на польском. Франц, лишенный предрассудков, приказал девушке раздеться, и та, стыдясь, снимала по одежке и спрашивала глазами: "Довольно?" Но он, громко стуча ребром ладони по столу, покрикивал: "Еще!"
- Как твое имя?
- Лиза. Лизхен!
- О...
Франц закончил поиски: дочке понравится, что ее няню будут звать так же, как и ее саму. Фабрикант, хозяин Лизы, уступил девушку дешево. Ее в тот же день отвезли в знаменитую душевую концлагеря, где она довольно долго оставалась наедине с Францем Райдлером. Новым хозяином, который принес дорогое душистое мыло, мочалку, два роскошных махровых полотенца, белье из шелка для Лизы и для себя, и одежду, красивей которой у Лизы никогда в жизни не было. Франц сам мыл Лизу, желая убедиться в том, что она - девушка. Эта церемония была особенно обидной для Лизы, отличавшейся несговорчивым (особенно для сироты!) характером.
Когда, вымывшись, Лиза стала одеваться, Франц... заплакал. Удивленная девчонка, ожидавшая, что хозяин захочет совсем другого – так нежно он к ней прикасался, мыл ей голову, будто слуга не она, а он, посмотрела на него с тревогой...
Франц, высморкавшись, сказал, что их старшая дочь Лизхен умерла от сердечной недостаточности примерно в том же, что и Лиза, возрасте, и что она очень напоминает ему дочку золотистыми волосами и телосложением. Что очень часто он мыл ее сам, потому что очень любил, оттого и сделал выбор в пользу Лизы. Но как отнесется к его выбору фрау Инесса, он и предположить не может. Вдруг ей станет больно?
Лиза немного успокоилась, а эсэсовец, крутивший задом за дверным глазком и ожидавший совсем других "картинок", выпустил их за ворота концлагеря, смотря на двоих несчастных людей пустыми, как осеннее небо, глазами...
Франц Райдлер вел Лизу мимо ворот концлагеря, иногда задумчиво поглядывая на нее: не Бог ли сжалился над ними, сначала послав эту девушку в ад, чтобы потом вернуть ее в райские кущи?
Далеко идти не пришлось. Вилла Франца стояла почти рядом с фабрикой. Какое это было чудо! Небольшой двухэтажный дом окружала зеленая лужайка. Очень коротко подстриженная мягкая травка пружинила под ногами...Т акого дома Лиза ни разу не видела за всю свою короткую жизнь: нижний этаж здания сложен из красно-коричневого кирпича, окна - большие, с плотными кружевными занавесками. Зато второй этаж был полностью стеклянным! Что происходило за стеклом? Белоснежные занавески скрывали тайны "пряничного "домика...
Распахнулась дверь, и на пороге возникла очень худенькая высокая женщина с гладко зачесанными волосами, в белой блузке и длинной черной юбке. Она оцепенело застыла на пороге домика, а юбка колыхнулась, и из-за нее выглянула озорная мордашка малышки. Растерянность прошла. Женщина, скрестив на груди руки, медленно двинулась к ним, остановившимся у края лужайки. В ее глазах стояли слезы, лицо сморщилось то ли от боли, то ли от неудачной попытки улыбнуться.
- Это Лизхен, - сказал побледневший Франц. Тогда женщина совершила неожиданный поступок: бросилась вперед, крепко обняла Лизу и зарыдала. Лизе стало жалко немецкую фрау, она тоже обняла ее, гладя худую спину своими распухшими, с потрескавшейся кожей, руками.
- Ты моя Лизхен, я знала, знала, ты вернешься! - плакала и смеялась женщина и целовала пушистые косы Лизы.
- А я - кто? Я тоже Лизхен! - дергала мать за юбку неуемная девчонка.
Женщина опомнилась, присела на корточки, прижала дочь и сказала угасшим голосом:
- Ты моя настоящая Лизхен... А это - Лиза, она будет тебя воспитывать и помогать мне по дому. Поэтому я попросила господина Райдлера найти ее мне. Он нашел!
Фрау строго, но вместе с тем и счастливо улыбнулась мужу, и все пошли в дом.
Лизе показали комнату на нижнем этаже: чистенькую, уютную, с половичком у кровати, заправленной кружевной накидкой, тумбочкой, покрытой ажурной салфеткой. (Позже выяснилось, что фрау была голландкой, а все голландки - славные кружевницы!). Над тумбочкой висело довольно большое зеркало с засохшими вербочками. В комнате стоял и шкаф. Знакомившая Лизу с ее новым жильем, фрау объяснила: «В шкафу два отделения: в маленьком - рабочая одежда, в большом - одежда для работы с Лизхен и для выхода в город».
Трудовая жизнь в доме начиналась рано - в пять утра. Собирали на работу Франца: гладили рубашки, брюки, долго подбирали к ним галстуки... Все это делала сама фрау. Лиза должна была помогать на кухне старой и толстой голландке, ворчливой и всегда недовольной: "Лизхен глупая, ничего не умеет..." Она постоянно жаловалась хозяйке на новую служанку. Та, посмотрев на изуродованные руки Лизы, отмахнулась от вредной бабы:
- Она очень быстро научиться. Девочка трудолюбивая и, кроме того, росла не в семье у мамы под крылышком (Лиза уже успела рассказать доброй фрау о жизни в детдоме...).
Лиза и вправду быстро научилась кулинарному мастерству. Завтрак Францу она подавала к шести утра, а затем занималась уборкой по дому. Фрау была чистюлей из чистюль. Медные ручки великого множества дверей дома должны были сиять, белые двери каждый день натирались каким-то душистым порошком. К счастью, белье сдавалось в прачечную, а кружева фрау Инесса стирала сама. На втором этаже, кроме огромной стеклянной гостиной, были и другие комнаты. Двери вели в детскую Петера и Лизхен, в хозяйскую спальню и гостевую.
Лизе доверили детскую и гостевую. Входить в другие комнаты строжайше запрещалось. Хозяйка тщательно оберегала комнату-святыню умершей дочери и свою с мужем постель. Стеклянная стена, которая так понравивилась Лизе, требовала тщательнейшего ухода. Возле нее стояло несколько больших керамических бочек, в которых росли пальмы и какой-то удивительный цветок, его название Лизе не сказали, а она боялась спросить. Девушке приходилось с одинаковой любовью протирать и стену, и листья пальм. Фрау часто проводила пальцем в труднодоступных местах и, если находила пыль, выговаривала Лизе ровным, но злым голосом. Иногда глаза ее наполнялись слезами...
Самым неприятным занятием были игры с малышкой. Изворотливая, крикливая, она нередко пряталась так удачно, что найти ее можно было с большим трудом. Она изводила Лизу, и ей иногда думалось, что на черепичной фабрике было... лучше, чем здесь, в "пряничном" домике.
Лизхен заставляла Лизу встать на четвереньки и погоняла свою "лошадку" хлыстом, который больно сек девушку по плечам, но порой доставалось и лицу.
Хотя руки Лизы зажили быстро (фрау дала ей какую-то дурно пахнущую мазь), она очень часто плакала от обид, нанесенных противным ребенком, которого, что бы Лизхен не вытворяла, никогда не наказывали. А еще Лизхен читала немецкие сказки вслух, а потом требовала пересказать. Она играла в учительницу. "Учительница" обожала бить по рукам свою бестолковую "ученицу". А вот незатейливые немецкие песни они пели вместе. К тому же Лиза довольно сносно играла на пианино. И фрау довольно улыбалась, когда из гостиной, под аккомпанемент Лизы, слышалось песня, которую тянули два голоса: "О, танненбаум, о, танненбаум!"
Петер бывал дома редко. Он учился в закрытой школе «Гитлерюгенд» и приезжал домой только на каникулы или в дни католических праздников. Зловещая школа сделала свое дело. Высокий, стройный, белобрысый, одетый в шорты и курточку, украшенную серебряной нацистской символикой, он был молчалив, пустоглаз и задумчив. В руке он обычно держал "финку", которой рассеянно поигрывал, оставшись с Лизой наедине. Она смертельно боялась повернуться к нему спиной, когда убирала комнаты, а он ходил за ней и подробно рассказывал, что они делают в школе с "юде" и большевиками. При этом он, гнусно ухмыляясь, монотонно приговаривал:
- Вы - рабы. Вы будете рабами все. Только немецкая нация должна жить на земле хозяевами. Все оставшиеся в живых будут служить нам. Ваша роль незавидна: вы ничем не лучше животных. Отец говорит, что ты похожа на нашу Лизхен. Это неправда. Она бы никогда не натирала полов и не позволила бить себя хлыстом. Вот чем отличаются рабы от хозяев!
Лиза боялась возразить. Петер часто раздражался: видимо, "уроки" с "юде" и большевиками не прошли даром для неокрепшей юношеской психики. Однажды он с размаху ударил ее по щеке за то, что не нашел на месте галстук. Лиза заплакала, а Петер удивленно произнес:
- А большевики не плачут, когда я вырезаю им на спине звезду! Ты не большевик, ты притворщица. Да и внешний вид твой говорит о том, что ты принадлежишь к нашей расе. Таких мы будем оставлять и размножать. Остальных мы уничтожим...
Наступил 1944-й год. До этого было Рождество. Маленькая Лизхен спела перед гостями "Танненбаум", и ей долго хлопали. Дамы, поглядывая на Лизу, спрашивали у фрау Инессы, где она нашла такую красивую польку, да еще так хорошо играющую на фортепиано.
Фрау Инесса молча улыбалась сквозь слезы. Одна из ее гостий что-то шепнула соседке, и та, покачав головой, показала свое согласие.
Лизе сказали, что она свободна. Поздно вечером, когда девушка уже была в постели, фрау тихо постучалась к ней. В руках она держала сверток:
- Это тебе, дорогая Лизхен, подарки к рождеству. Они мне очень дороги: это платье и эти часики мы с Францем подарили нашей дочери в день ее рождения, а через неделю она умерла... Носи по праздникам. Я буду счастлива видеть тебя в этом платье.
Лиза поднялась, поцеловала руку фрау, а та, тихо заплакав, вышла из комнаты.
Утром Лиза надела красное платьице, которое пришлось ей впору. На груди был вышит замысловатый синий узор. Хороши были и часики: золотые, маленькие, они тихо тикали... В этот день можно было не работать. Лиза, не торопясь, расчесала свои роскошные волосы, заплела их в две тугие косички и распушила челку.
Раздался стук в дверь - ее звали. Она спустилась в столовую на нижнем этаже. Все уже сидели за столом, накрытом белой полотняной скатертью, и с нетерпением ждали ее появления. Франц опустил голову. Он пытался скрыть слезы, а фрау Инесса весело сказала:
- Быстро завтракаем. к нам приедет фотограф. Нужно сделать снимок на память!..
...История этого снимка так долго не была раскрыта именно потому, что у Лизы... впервые была как бы семья. Она иногда бывала счастлива в этом нереальном, "пряничном" домике из детского сна...
Но как хрупко все, что связано с жизнью! Однажды Лиза в гостиной разбила старинную фарфоровую вазу, наследованную фрау Инессой от предков. Все решилось бесповоротно и в один миг: Лизу до прихода Франца отправили на черепичный завод. "Дорогие подарки" отобрали...
Девушки, измученные до предела, с завистью смотрели на холеную Лизу, которая снова оказалась на грязной соломе, в холоде, с жидкой баландой по утрам в ржавой жестяной банке.
Шел 1945-й год. С Запада на Германию надвигались американцы, с Востока - русские. Хозяин ужесточил трудовой график, урезал пайку.
Лизе и еще одной симпатичной девушке вольнонаемные голландцы предложили помочь бежать - граница рядом. Лиза понимала, что нужно бежать: ходили слухи, что фабрику и концлагерь по соседству собирались ликвидировать... Нацисты не нуждались в живых свидетелях их преступлений. Выхода не было.
Бежали темной ночью. Перелезая через колючую проволоку границы, Лиза сильно поранилась - вырвала из бедра кусок мяса, и рана сильно кровоточила, оставляя широкий кровавый след. Голландец туго перевязал рану своей рубашкой. Спрятались на сеновале одной из семей - родители одного из парней не знали, что их сыновья прячут русских девушек. Голландцы тайно кормили девчонок, единственной проблемой была травма - рана начала гноиться, в ней завелись черви… Девушка нуждалась в чутких руках хирурга, но в подобных условиях медицинская помощь была сродни чуду...
Но однажды утро взорвалось ревом американских танков. Подружка Лизы так и осталась в доме голландца: он любил ее. А Лизу, как и других оставшихся в живых "теней", американцы отправили в санаторий, где бывшая рабыня пришла в себя, постепенно начиная верить в счастье - она жива и может наконец-то вернуться на Родину!
...Передо мной фотки "овчарки". Не знакомый с их историей человек брезгливо бы отнесся к этим фотографиям. А я знаю, что мама в плену спаслась именно так, как она мне рассказала. Я верю ей.
Елизавете Александровне пришлось пережить много, но она очень мужественный и крепкий человек, раз до сих пор хранит эти крамольные фотографии. И никакая она не "овчарка", она, моя мама, своими маленькими ножками проделавший такой длинный путь из небытия на Родину... Теперь я это знаю.
Автор: Вера Захаренкова-Дивакова